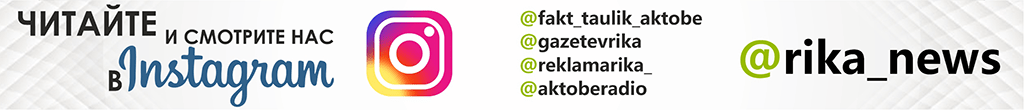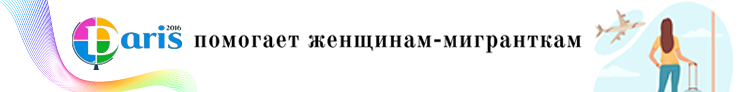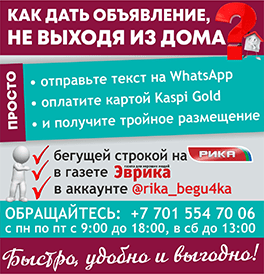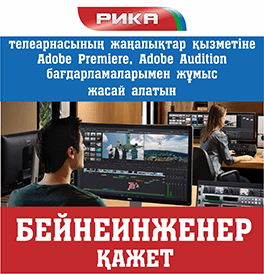Детство
«Эврика» продолжает публикацию отрывков из книги экс-акима Актобе Каиркожи ЕЛЕУСИЗОВА «Екі дәуірдің тоғысында / На стыке двух эпох». Главы книги опубликованы на казахском и русском языках.
«Что такое человеческая жизнь?
Первая треть – хорошее время.
Остальное – воспоминания о нём».
Марк Твен
Отец, Жумагали Елеусизов, родился в 1928 году, воспитывался в детском доме, окончил фабрично-заводское училище (ФЗУ) и всю жизнь проработал на железной дороге, вначале путейцем, потом – стрелочником.
Мать, Ханзиля Елеусизова, занималась семьёй и домом. Я – единственный ребёнок в семье.
О других моих родственниках по восходящей и нисходящей линиям можно прочесть в части «Шежiре», опубликованной в этой книги. Здесь же упомяну лишь о бабушке с дедушкой, об их непростых и противоречивых судьбах, о которых мне известно крайне мало.
Дедушка мой по линии отца, - Елеусиз, - о котором известно лишь со слов наших родственников. Папа мой крайне мало и редко рассказывал мне о своём отце. Так вот, дедушка был крупного телосложения, светлолицый. Он был настоящим трудягой – на берегу речки Кублей, что в нескольких километрах от Изимбета, держал скот. По советским меркам того времени он числился середняком, а, быть может, и кулаком. это-то его и сгубило.
В 1929 году, с началом коллективизации, скот у деда Елеусиза конфисковали, а его самого арестовали и увезли в неизвестном направлении. Больше мы о судьбе дедушки ничего не знаем.
Его супруга, моя бабушка Талма осталась одна с годовалым сыном, моим будущим отцом на руках. Но так продолжалась недолго – вскоре она вышла замуж за односельчанина Битимбая Алпысбаева, у них родилось двое детей – Абдия и Агиля.
Вот только отцу места в новой семье матери не нашлось, он сначала воспитывался в семье родственников отца Койшыгуловых – Куняш-аже воспитывала его и своего сына Куанышбека, а затем и вовсе оказался в Уильском детском доме (в известном «Красном доме»). Там он рос, учился, воспитывался; возмужав, мой отец поехал учиться в фабрично-заводское училище (ФЗУ). После его окончания устроился на работу в посёлок Каратобе нынешней Западно-Казахстанской области. Там он повстречал мою будущую маму – она родом из Миялы нынешней Атырауской области. Поженившись, молодые вернулись в Изимбет.
Здесь я и родился.

Я с родителями.
Жили мы с родителями в обычной глинобитной землянке невдалеке от нашей речки Кублей, которая берёт своё начало с родников в районе совхоза «Уркачевский» и ниже по течению впадает в Темир. Тот, в свою очередь, - в Эмбу, а та уже несёт свои воды в Каспийское море.
Помню, в землянке, сразу как в неё заходишь, справа, за дверью, находилось помещение для скота. Прямо – дверь в маленькую кухоньку с печкой, дальше – единственная комната. На кухне мы кушали, спали здесь же и в той комнате, которую гордо называли залом. Бывало здесь же, на кухне, с нами находился новорожденный телёнок. Мы его забирали зимой в тёплое помещение, а через неделю-две возвращали к маме-корове, жившей в соседней комнате.
Многие мои сверстники в своих газетных статьях или даже книгах рассказывают о своём скромном детстве в стеснённых условиях и преподносят это как какой-то героизм. Это не героизм вовсе, в то время все так жили. В то время были важнее человеческие отношения в семье и та самоотдача с которой родители воспитывали детей, а дети - старались в меру сил и способностей помогать родителям по хозяйству.
Через несколько лет мы, правда, переехали – отец поднакопил денег и купил другую землянку – она была немного выше и просторнее предыдущей. Там для жизни семьи были уже три комнаты.
В общем, мы жили весело и красиво – на станции была работа, а коллектив подобрался дружный. Потому что людям делить было нечего, все находились в равных условиях.
Основной задачей станционной малышни летом была встреча скота с пастбища. Нужно было корову и несколько овец встретить с поля и загнать в калитку своего двора.
Когда подросли – стали заниматься заготовкой кормов. Берёшь с утра ишака, запрягаешь его в арбу и вместе с друзьями, у которых такие же повозки, с визгом и криками едем на берег Кублея косить траву. Причём участки мы сами между собой поделили. Косим так часа 3-4, пока солнце ещё не припечёт, грузим скошенное на арбу и везём по домам. А вечером, когда отцы приходили с работы, ещё раз едем вместе с ними и уж косим дотемна.
Между делом ещё и поиграть с ребятами успевали. После обеда, если не было никаких дел по дому, убегали на берег речки рыбу ловить, играли в песках в асыки, лапту, возле железной дороги. И сено косили, и коров встречали, и играли мы одной дружной компанией. Все мы были ровесниками. Ну, может, и была разница в возрасте на 1-2 года, но мы её не чувствовали. И я не только помню имена своих друзей детства, со многими мы поддерживаем отношения. Это Таштай Шитов, Каден Кулбулдинов, Сагындык Тасмагамбетов, Бауеш Тагабергенов, Куандык Бусурманов, Танкеш Боранкулов, Галым Андагулов, Кулмурза Тлеубаев, Сапан Еркебаев…
Событием на станции был приезд вагон-лавки, это происходило раз или два в месяц. Этот вагон загоняли в тупик, и молва о его приезде быстро разносилась по Изимбету. Это был праздник не только для детей, но и для взрослых! Все мы бегали в эту лавку, да и не по одному разу. Матери покупали вермишель, крупы, муку, сахар… А нас, пацанов, особенно интересовали консервы – килька в томате, 53 копейки стоили. Дома с хлебом как поешь – объеденье!
Другим знаменательным событием для станции был приезд кино. В вагон-клуб, в котором крутили фильмы, набивалось немало народу. Мы, ребятня, сидели на полу и раскрыв рты следили за приключениями героев. Причём, мало понимали происходящее на экране – большинство фильмов крутили на русском языке, а мы тогда русского языка ещё не знали, дома разговаривали только на казахском.
Но любви к кинематографу это обстоятельство не помешало. Уже когда повзрослели, бегали с пацанами в отделение «Пахарь» совхоза «Ильичёвский», расположенное невдалеке от нас. Село было крупным – там была ферма, работали скотники, доярки, чабаны. Но, самое главное, в «Пахаре» был клуб! Так мы вечерами пешком три километра туда и обратно.